На протяжении десятилетий центральная догма биологии и генетики фокусировалась на генах — конкретных участках ДНК, кодирующих белки. Эти гены, составляющие всего около 1,5% от всего человеческого генома, были в центре внимания науки, фармакологии и биотехнологической индустрии. Они определяют наследуемые черты, от цвета глаз до предрасположенности к определенным заболеваниям, и именно на них были нацелены первые поколения генных терапий и диагностических тестов. Остальные 98,5% генетического материала за неимением понимания их функции были пренебрежительно обозначены как “мусорная ДНК”. Этот термин отражал распространенное в научном сообществе убеждение, что данные сегменты являются эволюционными артефактами — бесполезными накоплениями генетического материала, не несущими функциональной нагрузки. Однако прогресс в технологиях секвенирования и генного редактирования кардинально изменил эту парадигму. Сегодня становится ясно, что так называемый “мусор” в действительности представляет собой сложнейшую систему управления, от которой зависят развитие, функционирование и уникальность человека как биологического вида.
Революция в восприятии
Некодирующий геном как регуляторный ландшафт
Сдвиг в понимании начался с масштабных международных проектов, таких как ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements), которые показали, что значительная часть некодирующей ДНК биохимически активна. Вместо того чтобы быть “темной материей” генома, эти регионы содержат множество критически важных регуляторных последовательностей: промоторы, энхансеры, сайленсеры и гены некодирующих РНК. Они функционируют как сложная сеть переключателей и диммеров, контролирующих, когда, где и с какой интенсивностью должны экспрессироваться кодирующие белки гены.
Именно в этом регуляторном ландшафте может скрываться ответ на вопрос современной биологии: что делает человеческий мозг уникальным? Почему при наличии у человека и шимпанзе практически идентичных на 99% кодирующих белков геномов, наши когнитивные способности, сложность нейронных сетей и восприимчивость к специфическим заболеваниям столь разительно отличаются?
Фокус на мобильные элементы
Двигатели эволюции и развития
Международная исследовательская группа под руководством профессора Йохана Якобссона из Лундского университета сконцентрировала свои усилия на конкретном классе некодирующей ДНК — мобильных генетических элементах, или транспозонах. Эти повторяющиеся последовательности часто называют “прыгающими генами” за их способность перемещаться по геному, создавая вариативность и потенциально вызывая мутации.
Профессор Якобссон так формулирует основную цель своей работы: “Ключевой вопрос в моей лаборатории: как человеческий мозг стал человеческим? Мы хотим знать, какие части генома вносят вклад в уникальные человеческие функции и как это связано с нарушениями работы мозга”.
Предметом специального исследования стало семейство транспозонов LINE-1 (L1). Для изучения их функций команда применила комбинацию передовых технологий: инструмент генного редактирования CRISPR/Cas9 для точечного подавления активности L1 и методы высокопроизводительного секвенирования для анализа последствий в моделях — человеческих стволовых клетках и выращенных из них органоидах мозга (трехмерных клеточных структурах, имитирующих раннее развитие мозга).
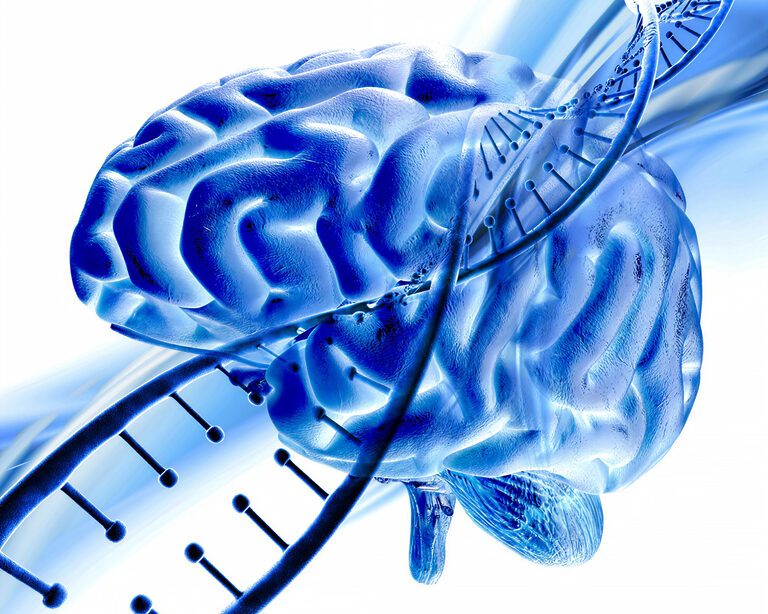
Практические результаты
Последствия подавления критических элементов
Результаты эксперимента были однозначными. Вопреки прежним предположениям, L1-элементы не являются молчащими. Они демонстрируют активность на критически важных ранних стадиях формирования нейронных тканей. Когда ученые заблокировали их функцию, они наблюдали существенные нарушения: сбои в нормальных паттернах экспрессии генов и аномальное развитие самих органоидов мозга. Это указывает на то, что мобильные элементы выступают в роли своеобразных генетических архитекторов, участвующих в построении сложнейшей структуры человеческого мозга.
“Ранее мы предполагали, что эта часть генома отключена и просто тихо находится на заднем плане. Оказывается, это заблуждение. Эти элементы не молчат — они активны в человеческих стволовых клетках и, по-видимому, играют важную роль в раннем развитии мозга. И мы обнаружили, что если их заблокировать, возникают реальные последствия”, — комментирует Якобссон.
Это открытие имеет два фундаментальных следствия. Во-первых, эволюционное: высокая активность определенных транспозонов в человеческом геноме могла стать одним из двигателей, обеспечивших быструю дивергенцию и усложнение мозга человека в сравнении с другими приматами. Во-вторых, медицинское: нарушения в работе этих элементов могут быть напрямую ассоциированы с широким спектром заболеваний.
Следующим шагом группы профессора Якобссона является углубленное изучение клинических корреляций.
“Наше исследование указывает на то, что эти элементы — не просто эволюционные остатки, они важны для регуляции генов, активных в мозге. Наш следующий шаг — изучить образцы пациентов: детей с нарушениями нейроразвития и взрослых с возрастными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона. Цель — понять, как скрытые части нашего генома способствуют развитию болезней и, в конечном итоге, разработать их лечение, основываясь на этих открытиях”, — заявил ученый.
Переосмысление роли некодирующей ДНК — наглядный пример того, как фундаментальные научные открытия способны перевернуть целые индустрии. Переход от концепции “мусорного генома” к пониманию его как критического регуляторного уровня открывает беспрецедентные возможности для создания инновационных терапевтических и диагностических продуктов.















 Кардиология
Кардиология Инфектология
Инфектология Онкология
Онкология Фертильность
Фертильность Нефрология
Нефрология Эндокринология
Эндокринология